После 24 февраля литература об истории, особенно о переломных ее моментах, захватила читательское внимание, и в этом, конечно, нет ничего странного. Подобное чтение неплохо помогает отрефлексировать прошлое, которое в ином случае умеет ловко подменять настоящее и цепляться загребущими руками за будущее. Война и режим закончатся раньше всевозможных внутренних сталинизмов и нигилизмов, которые наверняка попытаются урвать себе теплое местечко в «неясной России будущего». Хорошо бы уже сейчас готовить противоядие. Книги и публицистика Владимира Шарова, одного из самых сильных и оригинальных авторов постсоветского времени, — точно будут среди необходимых ингредиентов.
На протяжении всего творческого пути кандидат исторических наук Шаров последовательно вылепливал оригинальный взгляд на российскую историю и движущие ею идеи, одновременно пытаясь понять природу империи, радикального советского проекта, сталинского террора и религии в России. Парадоксальным образом в шаровском прошлом просматриваются картины настоящего и будущего — не менее достоверные, чем в сорокинском «Дне опричника». Всё это — веский повод вспомнить о творчестве писателя, ушедшего из жизни 5 лет назад, в августе 2018-го.
Один из самых популярных эпитетов, применяемых к Шарову, — «недооцененный». Отчасти это, конечно, верно. Широкая аудитория писателя недооценила, а скорее — просто не узнала о нем. Однако в профессиональном сообществе к его имени уже давно относятся очень серьезно. Это подтверждает хотя бы тот факт, что таких маститых литераторов, как Евгений Водолазкин, Михаил Елизаров и Михаил Шишкин, называют испытавшими влияние Шарова.
Романы Шарова трудно назвать историческими. Он густо перемешивает документальную фактуру и домысел. На уровне метафоры эти «коллажи» выглядят убедительно, но на реалистичность, конечно, не претендуют. Определение «историософские» подходит лучше. Тем более что и речь в книгах идет не о событиях, а об идеях, движущих ими. Шаровские сюжеты со стороны могут показаться провокативными. В 1993-м, сразу после публикации его третьего романа «До и во время», в литературном сообществе даже разгорелся скандал, спровоцированный, кажется, тем, что Сталин в романе оказался внебрачным сыном переродившейся французской писательницы мадам де Сталь, а оригинальный религиозный философ Николай Фёдоров — едва ли не главным вдохновителем Октябрьской революции. Со временем к подобным ходам Шарова привыкли. Никто, кажется, уже не удивлялся, когда пожилой Ленин в «Будьте как дети» (2008) пытался организовать крестовый поход детей в Иерусалим по водам Черного моря, а потомки Н. В. Гоголя в «Возвращении в Египет» (2013), выживая в ураганных потрясениях ХХ века, стремятся дописать вторую и третью части «Мертвых душ» (Гоголь в диалоге с Данте успел закончить только «Ад», но не справился с «Чистилищем» и «Раем»), чтобы спасти Россию.
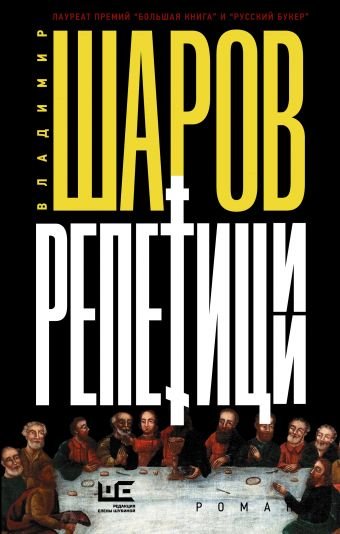
Обложка книги Владимира Шарова «Репетиции». Фото: «АСТ»
Роман «Репетиции» (1992) недавно всплыл в неожиданном контексте: появился в списке рекомендованной литературы из пропагандистского учебника новейшей истории — и, надо сказать, выглядел в нем не менее вызывающе для власти, чем «Прокляты и убиты» или уже упомянутый «День опричника». Сюжет романа строится вокруг судьбы французского театрального режиссера из XVII века, волей случая оказавшегося в Новом Иерусалиме у патриарха Никона. Патриарх дожидается скорого конца света и требует от режиссера поставить христианскую мистерию с вакантным местом для Иисуса Христа, который непременно появится. Герои репетируют второе пришествие, даже оказавшись в сибирской ссылке после падения патриарха. Постепенно эти репетиции подчиняют жизнь не только актеров, но и многих поколений их потомков. Роман заканчивается уже в ХХ веке. Поселение сектантов давно превращено в трудовой лагерь, однако происходящие там события по-прежнему определяются Священной историей и ожиданием Апокалипсиса. В этом сюжете, конечно, есть метафорическая правда. В одном из интервью писатель говорил: «Русская история может быть понята и объяснена с начала до конца только как некий комментарий к Ветхому и Новому завету… Это чисто религиозная история».
Шаров, конечно, не провокатор и, кажется, не смог бы им стать просто в силу личностного склада. Всё-таки провокация подразумевает сосредоточенность на современном контексте, желание зацепить современников и разворошить их дремлющие внутренние ульи. Шаров же как будто жил в ином, менее заземленном времени. Пространство истории неизбежно накладывало отпечаток, преображало шаровское «здесь-сейчас», делая его немного инопланетянином. «Безусловно, мир есть некоторый сумасшедший дом. Я всю жизнь из этого сумасшедшего дома бегу, и он меня настигает», — его слова из того же интервью.
Шаров, судя по воспоминаниям близких и коллег, не имел ни соцсетей, ни даже электронной почты, тексты предпочитал писать от руки и «не знал, где в доме лежат вилки».
В то же время, похоже, был очень симпатичным человеком: задумчивый, улыбчивый, добрый, страстный игрок в футбол и мастер настоящего, глубокого и теплого разговора. Есть в его образе что-то от лесковских странников, этаких людей «себе на уме», выпадающих из социума, живущих по своим неземным законам и как бы перерабатывающих впечатления, полученные во время странствий, в особую, причудливую картину мира.
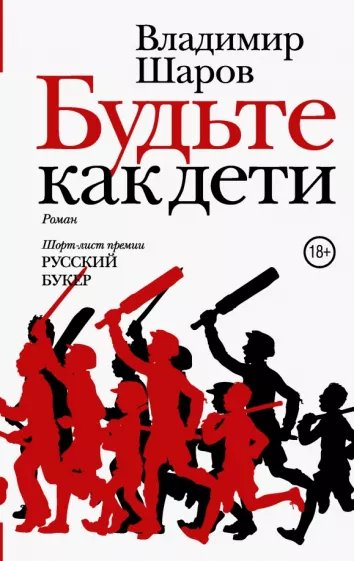
Фото: «Лабиринт»
В романе «Будьте как дети» особенно запоминается последняя сцена: где герои оказываются частью метафизического шествия мучеников российской истории, и судьба каждого растворяется в этом страшном народном движении через время. Похожие шествия в свое время пытался написать Илья Глазунов, но у него они всегда получались китчевыми. От шаровского — осталось совсем иное, острое и трагическое впечатление. В некотором смысле такое шествие есть чуть ли не в каждой его книге. Персонажи появляются, обманывают, притворяясь главными героями, а затем исчезают бесследно, уступая место новым. Хор голосов, несомых потоком истории. Лица, выхваченные из гущи общего движения и почему-то запомнившиеся. Книги-шествия, где подлинные протагонисты и антагонисты — идеи и духи, захватившие и ведущие людей через столетия.
В эссе «Октябрь семнадцатого и конец истории» Шаров писал: «Еще в конце восьмидесятых годов у нас в стране возникло течение, которое верило, что всю советскую историю можно свернуть, как старый ковер, и отправить в чулан, а дальше, прямо из предвоенного 1913 года, перескочить в девяностые годы и продолжать жить, будто ни октября 1917 года, ни всего, что за ним последовало, не было… Конечно, любой человек вправе не любить Октябрьскую революцию, но абсурдно убеждать и себя и других, что ее не было. Успокаивать тем, что вся она прибыла к нам в запломбированном вагоне, наложенным платежом, и мы вправе за ненадобностью в том же вагоне, даже не снимая пломбы, отправить ее обратно».
Эта мысль представляется особенно важной, если вспомнить шествия из его романов и то, что дореволюционные и советские события в них часто смешиваются. Россия в ХХ веке пережила по крайней мере два болезненных внутренних разрыва. 1917-й попытался вышвырнуть с корабля современности всю целокупность национального прошлого. 1991-й отчаянно хотел провернуть похожую операцию уже с советским опытом, осудить который, как казалось в тот момент, было важнее, чем осмыслить. Каждый решительный разрыв с историей закономерно оборачивается общественным расколом, а значит, и перспективами туманного будущего, в котором всякая сторона будет стремиться утвердить свою картину мира и избегать диалога с оппонентами. В конечном итоге смутой и раздробленностью непременно воспользуется власть. С этого ракурса, пожалуй, яснее видно, чем именно занимался Шаров.
Своими книгами и эссе он пытался заштопать разрывы российской истории, соединить оторвавшиеся, подхваченные и уносимые разными течениями островки эпох.
Сейчас, может быть, особенно остро ощущается важность и нехватка такой работы.
Историософия Шарова начинается со времен татаро-монгольского нашествия. Этот мотив звучит в размышлениях профессора Суворина из «Репетиций». Русские земли, объединенные прежде всего православной верой, за годы ига привыкли к собственному одиночеству и кольцу врагов-иноверцев вокруг. Позже это состояние закрепила Флорентийская уния 1439 года об объединении Западной и Восточной христианских церквей. Константинопольский патриарх надеялся таким образом получить от европейских стран поддержку в нарастающем противостоянии Византии с Османской империей. Русская православная церковь отвергла и осудила унию. А падение Константинополя в 1453 году, в котором увидели наказание за предательство Бога, как бы подтвердило ее правоту. С этого момента Россия «поняла себя единственной, последней хранительницей истинной веры». Возможно, в те времена и зародилась такая знакомая модель «осажденной крепости».
Следующий узловой этап — формирование в начале XVI века идеологии «Москва — Третий Рим». Этому Шаров посвящает большое эссе «Меж двух революций». Концепция монаха Филофея делала Москву преемницей погибших Рима и Константинополя (отчасти и Иерусалима), а русский народ объявляла богоизбранным. Идеи о приближении Апокалипсиса и второго пришествия в то время были очень распространены и в Европе, и в Московском царстве (именно поэтому «Четвертому Риму не бывать»). По задумке идеолога, русским царям, Божьим наместникам на земле, в грядущих событиях надлежало сыграть решающую роль: расширить для Господа территорию Святой земли и привести к Нему новые народы, вставшие на ложный путь, фактически спасая их от самих себя. Со временем, когда Апокалипсиса не случилось, возникла идея о том, что Иисус придет на Землю только тогда, когда богоизбранный народ объединит все остальные. В этой точке Шаров видит начало нескольких взаимосвязанных тенденций российской истории. Во-первых, конечно, имперство. Присоединение территорий оправдывается приращением их к Святой земле и богоизбранному народу. Именно поэтому, может быть, мы «не завоевываем», а военным путем «спасаем» другие страны от их «самоубийственных заблуждений». В этом смысле, говоря откровенно, нынешний российский самодержец и его глашатаи-пропагандисты от Филофея ушли недалеко.

Владимир Шаров на презентации книги «Возвращение в Египет». Фото: «АСТ»
Во-вторых, здесь же Шаров находит идею «революции сверху». Божий наместник получает карт-бланш на мобилизацию страны для расширения ее территории, укрепления мощи и прочих богоугодных целей. Считаться с жертвами ему совершенно незачем. У жизни подданных, особенно с учетом масштаба Божественного замысла, конечно, цена грошовая; тем более что они отправятся прямиком в рай, освобожденные от посюсторонних мук для вечности. Глупо ведь цепляться за здешнюю скоротечную жизнь, когда там всех нас дожидается вечная и подлинная, красивая, как коммунизм. Этим взглядом, пожалуй, можно объяснить и крайне небрежное отношение к человеку в России, и вообще пренебрежение к условиям материального мира, погрязшего во грехе и обреченного томиться в тени Апокалипсиса. Здесь же легко увидеть истоки пирамиды власти, с вершины которой самодержец может управлять игрушечными судьбами подданных-личинок по своему (и Божественному!) разумению. «Революционерами сверху» Шаров называет Ивана Грозного, Петра I и Сталина. Но список, возможно, скоро придется дополнить.
Церковный раскол 1650–1680-х годов писатель считает едва ли не главной русской революцией и, в некотором смысле, прародительницей Октября. Этот сюжет, помимо эссеистики, раскрывается и в самом титулованном («Русский Букер» и Третья премия «Большой книги») романе Шарова «Возвращение в Египет». Там, дописывая «Мертвые души», Н. В. Гоголь (второй) превращает Чичикова сначала в старообрядческого епископа, а затем в соратника Герцена и почетного члена революционной «Земли и воли». Старообрядческая мысль считала власть Романовых и поддерживающую ее Синодальную церковь «безблагодатными» — фактически не имеющими права управлять богоизбранным народом и его страной. Эти идеи, вероятно, не ограничивались старообрядческими кругами и, по мысли Шарова, со временем «ушли в народ». Позже большевики, пользуясь совсем иной терминологией, повторили и модернизировали их. Однако до поры в обществе доминировала государственническая концепция. Пока Российская империя расширялась и успешно вела войны, верноподданные Романовых получали подтверждение их богоугодности. Но поражение в Русско-японской войне и неудачи в Первой мировой пошатнули эту веру.
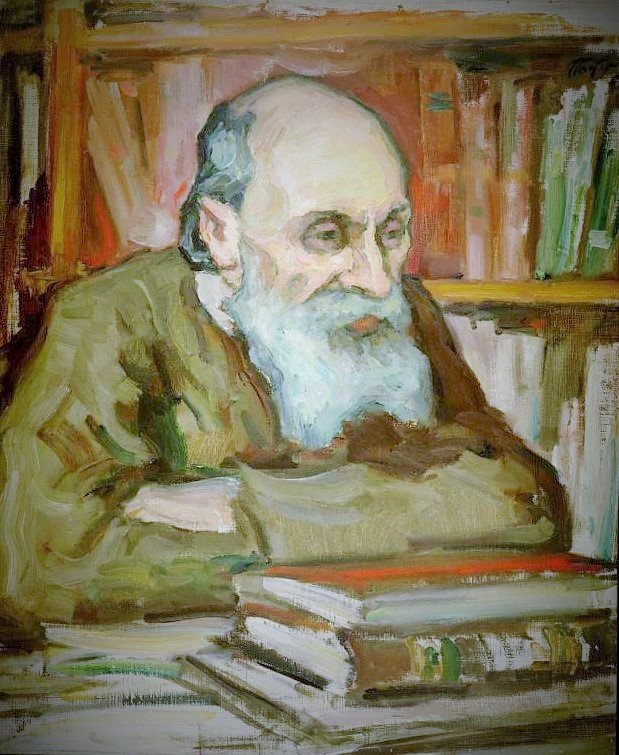
Пастернак Л.О. Портрет Н.Ф. Федорова. Из собрания Государственного музея Л.Н. Толстого, 1928 год. Фото: Wikimedia Commons
Одним из предтеч большевизма Шаров неожиданно видит философа Николая Фёдорова. Если говорить об известности, его имя, конечно, уступает и Бердяеву, и Ильину. Но влияние одного из родоначальников русского космизма и автора «Философии общего дела» не стоит недооценивать. Как мыслитель он повлиял на Толстого, Достоевского, Платонова, Циолковского, Филонова, Петрова-Водкина и других. Переосмысляя христианство, Фёдоров исходил из тезиса, что подлинный смысл учения Иисуса заключается в том, чтобы, не дожидаясь загробного рая, построить его на Земле, кардинально преобразовав планету при помощи технологий и новых взаимоотношений между людьми, а затем распространить процветание и на космос. Интеллектуальное обаяние и смелость Фёдорова, конечно, подкупали. Немало мыслителей и деятелей культуры увидели коммунизм через призму его учения. В уже упоминавшемся эссе «Октябрь семнадцатого и конец истории» Шаров подчеркивает, что и сам Карл Маркс, вопреки заявленному атеизму, в своем учении воспроизвел немало христианских схем (пролетариат — как богоизбранный народ, земная жизнь — юдоль страданий и скорби, коммунизм — возвращение блудного сына и загробный рай, перенесенный на Землю).
Глядя на Октябрьскую революцию через призму христианства, Шаров показывает очень важную преемственность. Большевистские идеи легли на почву, которую как будто специально, веками готовила российская история. Теперь долгожданное загробное царство оказалось перенесено в земной мир. А богоизбранный народ, живущий в плотном кольце врагов, как и прежде, должен был распространить его на всю планету. Разрушить до основания старый порядок, раздуть, на горе буржуям, мировой очистительный пожар, да так, чтобы из дыма и тумана появилась желанная страна — небесный Иерусалим, навсегда спустившийся к нам.
Диктатура «пролетариата» тоже нашла для себя подходящую историческую модель. От последней, сталинской «революции сверху» страна, похоже, не может оправиться до сих пор. А на троне уже заседает очередной самозваный «революционер». И это не совпадение, конечно. Просто модели, увы, долговечнее людей — особенно если не стараться осмыслить и изжить их. Шаров попытался, но вынужден был убедиться в их живучести. В одном из последних интервью он говорил: «Вот мне кажется, что наша власть считает, что когда люди живут ради себя, это состояние неправильное. Народ всегда должен жить ради высоких, глобальных целей…
Мы, строго говоря, вернулись на имперскую лыжню, к тому, как жили в XVII–XVIII веках. Другие уже так не живут. Светская история возобладала во всём мире. А мы пытаемся сохранить религиозную историю».
И последнее. В 2022-м философ и давний знакомый Шарова Михаил Эпштейн опубликовал о нем статью «Сатанодицея». Одна из ее главок посвящена гипотезе: «Александр Дугин как герой ненаписанного шаровского романа». Он и в самом деле очень вписывается в ряды мрачных персонажей писателя. Вполне уместно среди них смотрелся бы и театральный режиссер Эдуард Бояков, который в двух интервью Собчак и Гордеевой предложил, по сути, религиозное оправдание войны с Украиной. Когда наблюдаешь этих глубоко верующих милитаристов, непременно спрашиваешь себя: как же так вышло, что они не умеют разглядеть «искорки Божьей» в здешних, земных существах и безоглядно отвергают Его Творение, разменивая на масштабную и вполне апокалиптическую идею? Ведь в этом небрежении к живому, в какой-то роковой неспособности разглядеть тайну жизни в ближнем, наконец, в неумении спокойно, без надрыва, дышать простым «благодатным» воздухом как будто и таится причина российских политических злоключений. Манипулируя «великой идеей», власть снова и снова находит оправдание преступлениям против собственного народа, а само общество в ней же нередко находит причину терпеть.
Пожалуй, один из главных литературных собеседников Шарова — Андрей Платонов, написавший, среди прочего, потрясающий антитоталитарный роман «Счастливая Москва». Первая его половина заряжена искрящим драйвом коммунистической утопии, а вторая, «сталинская», напоминает опустошающее похмелье и крушение всех надежд. Но есть в этой концовке и светлое пятно. Один из главных героев, выдающийся инженер Сарториус, после всех испытаний научается одной из самых сложных человеческих «вещей» — сопереживанию. Думается, таким был главный вывод жестоко разочаровавшегося в утопии Платонова. Шаров, кажется, был с ним согласен.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.
Нажимая кнопку «Поддержать», вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.
Если вы захотите отписаться от регулярного пожертвования, напишите нам на почту: [email protected]
Если вы находитесь в России или имеете российское гражданство и собираетесь посещать страну, законы запрещают вам делать пожертвования «Новой-Европа».

